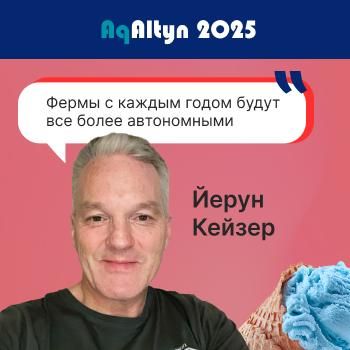Вызовы аграрного сектора Казахстана - интервью с Евгением Карабановым, Зерновой союз РК

С какими рисками сегодня сталкиваются отечественные сельхозтоваропроизводители?
– Основные ключевых рисков несколько. Все-таки наше сельское хозяйство сильно подвержено влиянию погодно-климатических условий. А в связи с тем, что сейчас происходят климатические аномалии, изменение климата, в прошлом году они были крайне негативны, в этом году пока позитивны, но наступает время уборки и те же самые дожди могут превратиться из позитива в негатив. Основной риск погодно-климатического характера.
Второе, риски, связанные с непоследовательностью государственного регулирования, бесконечные изменения условий субсидирования, кредитования, налогового кодекса. Это тоже негативный фактор, который безусловно отражается на развитии сельского хозяйства в нашей стране.
Следующие риски - глобальные геополитические. Мы видим, что происходит в мире, и когда говорят: вы, наоборот, должны быть бенефициарами, в выигрыше, на самом деле это не так. До войны в Украине очень много средств защиты растений, запасных частей, сельскохозяйственной техники поступало через региональные склады в России, которые имели там западные компании, а сейчас это всё к нам поступает напрямую в обход РФ, соответственно, увеличиваются логистические издержки, время доставки и так далее. Плюс, российская продукция, которая оказалась в силу разных причин под прямыми или косвенными санкциями, соответственно, ищет выход на другие рынки, например на наш казахстанский. Наверное, Вы слышали, что в последнее время поднимается вопрос о засилье российской молочной продукции, сыров, растительных масел, муки на прилавках наших магазинов? А сейчас и большой поток российского зерна на нашем рынке. Такая же ситуация и на рынках, которые мы считаем для себя традиционными: рынки стран Центральной Азии и Афганистана. Туда тоже пытается просочиться российская продукция. И этот маркетинговый год был показательным в части муки: Россия экспортировала 228 тыс. тонн муки в Афганистан, хотя в прошлом году было 130 тыс. тонн, а в позапрошлом – 14 тыс. тонн. То есть мы видим какой идёт рост, а это ключевой рынок для наших производителей муки, соответственно, если поступает туда продукция соседей, то уменьшается поступление нашей продукции. Это значит, что мукомолы меньше будут закупать зерно у наших фермеров. Геополитические риски, если не на прямую, то косвенно очень сильно влияют на АПК Казахстана.
Четвертая группа рисков связана с большой волатильностью рынка сельхозпродукции. Сейчас все рынки в принципе идут на спад, потому что ковид прошел. Взлет рынков начался в 2020 году, когда все боялись, что в связи с карантинами по COVID-19, нарушатся устойчивые цепочки поставки, и это происходило, на самом деле. Все делали какие-то запасы, к примеру пшеницы, как наиболее доступной продукции - источника растительного белка, с точки зрения цены, условий и возможностей хранения и транспортировки. Поэтому все кинулись покупать пшеницу про запас, и в результате, на мировом рынке произошёл взрывной рост цен. Потом началась война, которая стабильности не добавила. Но сейчас все подуспокоились, ковид прошёл, война войной, а обед, как говорится, по расписанию, что-то переориентировали по цепочкам поставок, что-то оптимизировали и пошла тенденция – цены на всех товарных рынках начали снижаться и продовольствие не исключение. Сейчас мы видим, что цены пришли к уровню до начала ковида, т.е, к уровню весны 2020 года. Мировые цены на основное сырьё пошли вниз, за исключением некоторых позиций, которые сильно зависят от погодно-климатических условий и так далее: какао-бобы, кофе, цитрусовые, но это другая тема, а на массовые товары, сельскохозяйственные, так называемые коммодити, все цены в общем-то вернулись к эпохе четырёхлетней давности. И, соответственно, конкуренция на этих рынках начала жёстко обостряться между производителями зерна США, Канады, Аргентины, Австралии Европейского союза, Украины, России. Мы, опосредованно тоже там принимаем участие, потому что в общем мировом балансе учтены и наши ресурсы, хотя мы более региональный игрок. Однако, от цен и спроса мирового рынка потом зависят внутренние цены в нашей стране.
В приоритете должны быть перспективные для нас направления: глубокая переработка мяса, молока и зерна, развитие промышленного тепличного хозяйства, отметил Президент в Послании. Как, на Ваш взгляд, в РК обстоит ситуация с сельхозпереработкой продукции?
– На сегодняшний день Казахстан имеет достаточно большие мощности по переработке пшеницы в муку, но столько муки в общем-то и не нужно. Потому что все наши соседи, озаботившись продовольственной безопасностью, тоже потихоньку начали создавать свою мукомольную промышленность. На сегодняшний день тот же Таджикистан и Узбекистан успешно её создали, а ранее эти две страны были одними из основных импортёров нашей муки, то есть теперь они покупают не муку, а пшеницу.
Естественно, когда раздаются голоса: «надо запретить экспорт пшеницы и продавать только муку», я говорю: «хорошо, но свято место то пусто не бывает, рядом Россия, которая с удовольствием успешно заместит им поставки нашей пшеницы». То есть, вот эти рассуждения некоторых экспертов и чиновников больше похожи на пребывание слона в посудной лавке «…крикнул слон, не разобрав, видно быть потопу...» Это из этой категории радикальных какие-то действий. Но нужно понимать, что тот же рынок муки очень специфичный. Во-первых, он существенно, в 15 раз меньше, чем рынок пшеницы, во-вторых, он очень специфичен в силу того, что муку покупают как правило страны, которые испытывают очень серьёзные социально-экономические проблемы, связанные либо со стихийными бедствиями, либо с войнами, с вооружёнными конфликтами на своих территориях. Соответственно, и платёжеспособность этих покупателей крайне низкая.
Если мы посмотрим список основных покупателей муки в мире, номер один - Ирак, на втором месте Афганистан, на третьем - Йемен, также в список входят Судан и Сомали. То есть развитые страны не покупают муку, они покупают пшеницу, потому что её удобнее хранить и транспортировать, из пшеницы можно сделать муку, как говорится, по требованию рынка и качества для разных потребителей. У нас на сегодняшний день более 10 миллионов мощностей по переработке пшеницы в муку, при этом мы используем меньше 50% ежегодно. Дальше в это направление уходить, наверное, бессмысленно.
Аналогичная ситуация происходит сейчас по маслозаводам. У нас есть возможность переработки более трёх миллионов тонн, и ещё строятся дополнительные мощности, при этом в общей совокупности мы в прошлом году произвели всего 2,2 млн тонн всех масличных культур, включая те, которые у нас практически не перерабатываются (семена льна, горчицы, сафлора). Речь идет о том, что переработка должна развиваться поступательно и последовательно при наличии сырья. А не так, что у нас нет сырья, давайте пошлину влепим и поддержим переработчиков. А кто за эту пошлину заплатит? Яркий пример - введение в феврале прошлого года экспортной таможенной пошлины (ЭТП) на семена подсолнечника 100 евро за тонну. У нас, как только её ввели, внутренняя цена на семена подсолнечника упала ровно на €100, хотя были заявления, что заплатят экспортеры, импортеры. Но импортер не готов за это платить, экспортер тоже не будет, потому что экспортёры зарабатывают свои $10 на разнице цен и все, то есть они консолидируют объемы, они ищут покупателей, продавцов, грубо говоря, выступают в роли посредников и организаторов и за это имеют свои $10, при этом несут все риски, связанные с поставкой и оплатой. Но, зарабатывая $10, невозможно же заплатить €100, никто в убыток себе работать не будет. Переработчики получают дешевле сырье, государство - деньги, в виде налогов от переработчиков и оплаты (ЭТП) экспортерами. А за все эти удовольствия расплачиваются фермеры. А почему поддержка переработки должна осуществляться за счёт фермеров, справедливо ли это?!
А при этом дальше идёт строительство новых заводов, под это выдаются «длинные» деньги по различным госпрограммам, но нужно ли это делать сейчас? У нас достаточно мощностей по переработке, давайте их загрузим, не надо строить новые, мораторий объявите. Кто хочет, пусть строит, но за собственные деньги, а не за привлечённые у государства средства.
Третий аспект - глубокая переработка зерновых культур. Это очень интересное направление, там производство крахмала, сухой клейковины, глюкозно-фруктозных сиропов, этанола, всевозможных аминокислот, как лизина и тианина. Последние используются в качестве добавки в корма для животных для улучшения усвояемости основных кормов. Всё это мы импортируем. Но нужно понимать, что стоимость строительства таких заводов составляет от трёхсот миллионов евро и выше. Там срок окупаемости не 3-5 лет, а минимум десятилетие, а то и полтора. Это очень серьёзные вложения, вопрос - кто на эти серьёзные вложения из инвесторов готов, остаётся открытым. Хотя недавно прозвучала информация, что вроде бы какая-то китайская компания собирается сделать эти вложения, посмотрим. Опять-таки, в связи с таким частым изменением нашего налогового законодательства у инвесторов вполне резонные опасения могут возникнуть, будут ли их инвестиции надёжно защищены действующими какими-то преференциями. У нас же меняется всё, мы постоянно что-то экспериментируем, бесконечные эксперименты проводим над собственным бизнесом. Постоянно говорим о том, что нам нужно пополнять доходную часть бюджета, простите, а расходную часть бюджета вы не пробовали сократить?!
Когда говорят: не хватает денег, что-то нужно делать. А вариантов всего три: первый – начать больше зарабатывать, второй - начать меньше тратить и третий - начать больше зарабатывать и меньше трать. Вот у нас видят только первый вариант, хотя существуют ещё два, но я нигде не слышал о том, что мы уменьшили расходы бюджета, нет, мы должны увеличить доходы бюджета.
Глава государства заявил: «Для развития села принципиально важна поддержка малых хозяйств. Программа «Ауыл аманаты» доказала свою востребованность. Следующим этапом её развития должна стать не просто выдача льготных кредитов, но и стимулирование кооперации личных подсобных хозяйств». Как, по вашему мнению, в стране налажена система кредитования аграрного сектора, в частности малых хозяйств?
–Если под малыми хозяйствами подразумевать личные подсобные хозяйства граждан, то ситуация следующая: со времён 90-х годов в нашей стране очень сильно развился частный сектор. В то время были серьезные проблемы с продовольствием, не хватало денег, и многие сельчане вели, что называется, натуральное хозяйство. Но с тех пор ситуация изменилась в корне. Индустриальное производство того же молока более приоритетное. Наверное, вы слышали про проблемы нашей ветеринарной службы: бесконечные приписки в части вакцинации животных, периодические вспышки инфекций, в том числе карантинных, таких как ящур и особо опасных, как сибирская язва. Это говорит в целом о ветеринарном благополучии в стране. Но если проблема возникает в организованных хозяйствах, то что уже говорить про личные подсобные, много скота даже не зарегистрировано ни в каких государственных системах. И вот, когда были паводки, эта ситуация, как говорится, вместе с ними и всплыла наружу. После этого Минсельхоз сделал корректировку по поголовью КРС в нашей стране на 2 млн голов и на 3 млн литров молока снизили надои. Многие люди не могли получить за погибший скот компенсацию, потому что он не был зарегистрирован. А что такое незарегистрированный скот? Он априори не проверяется, у него не берутся анализы, продукция, полученная от этого скота, тоже нигде не проверяется и так далее. Тоже самое производство молока, здесь помимо здоровья животных, условий содержания , кормов, ветеринарного обслуживания, ещё очень важный аспект - в каких условиях доится корова, моет ли доярка руки, обрабатывает ли вымя, доит руками или аппаратом, как промывается этот аппарат, как охлаждается молоко, какое оборудование применяется... И это настолько огромный комплекс вопросов, которые надо учитывать, что рядовому ЛПХ с 2-3 головами их вряд ли под силу решить. Тем более сейчас, ужесточили технический регламент Евразийского экономического Союза на молоко и молочную продукцию; они обязательно должны обследоваться на микробиологические показатели, а сто процентов в личных подсобных хозяйствах с микробиологией не всё в порядке, потому что нужно использовать соответствующие дезинфекционные растворы, выдерживать все эти регламенты и процедуры. Ну кто их выдерживает?! Зато мы все восхищаемся, ах, это же домашнее молочко и сметанка. Простите меня, но, я видел, как это делается. Вот пошла женщина доить корову, я вижу руки без перчаток, у меня сразу вопрос - мыты ли руки, нет ли на руках травм и повреждений.
Что касается вопроса господдержки, кредитовать или нет, необходимо разобраться с этими личными подсобными хозяйствами. Те ЛПХ, которые имеют возможность для развития, соблюдения всех ветеринарных, медико-санитарных норм и так далее, тем, безусловно, нужно оказать поддержку. Со временем они вырастут в небольшие фермы с поголовьем 30-50 голов КРС, это вполне нормальная хорошая семейная ферма, которая будет соблюдать все требования, и это здорово. Но поддерживать всех и вся, считаю неправильно. Как в прошлом году в западных регионах Казахстана были проблемы с кормами. Слушайте, а зачем там держать скотину, если там ежегодные проблемы с кормами? Если человек хочет держать скот, он должен это делать на свой страх и риск, к примеру, как я аквариумных рыбок завёл, это мое хобби. А говорить о том, что теперь скотина без кормов осталась, простите, а чем думали люди, прежде чем скотину заводили? И предлагают государству ежегодно решать эту проблему! Я считаю, что это иждивенческие настроения, с ними надо заканчивать. Необходимо определить кого поддерживать, в каких регионах. Допустим, в регионах Мангистау не надо держать КРС и лошадей, а верблюдов и овец - вполне оправдано. Исходя из наличия кормовой базы, инфраструктуры и всего остального нужен дифференцированный подход, а не так, что поддерживаем всех или никого не поддерживаем, это к вопросу кредитования ЛПХ.
Что касается кредитования ТОО и крестьянских хозяйств состоявшихся, там тоже очень много вопросов возникает. Вопросы в части оценки залогов, потому что большинство залогов находится в сёлах и, соответственно, применяют такие понижающие коэффициенты, что оценка итоговая становится смешной. Естественно, сельхозтоваропроизводитель не может привлечь под эту оценку никакие кредиты.
С субсидированием у нас вообще беда. Фермер ждёт субсидию, платит кредит под 22% годовых, по сути, он обслуживает кредит, выданный по линии госфининститута по коммерческой ставке, а потом раз и субсидии не хватило, не хватило денег, нет в бюджете. Мы об этом неоднократно уже говорили. Для фермера, как конечного получателя, ставка должна быть и начальная, и конечная. Вы сказали - 5% годовых, вот выдайте ему под 5% годовых, а все эти субсидирования - задача фининститутов. Условно говоря АКК, «Байтерек» и так далее, дальше это их взаимоотношения с Минфином, местными бюджетами, этим не должен заниматься фермер. Он не должен каждый день ночевать возле компьютера и ждать откроется окно для подачи заявки или нет, он должен своим делом заниматься. Каждый должен заниматься своим делом: финансисты – финансами, а фермер должен заниматься сельским хозяйством.
Ближайший пример, в той же России - фермеры имеют одинаковую начальную, и конечную ставки, а все взаимоотношения между финансовым институтом, через который выдается кредит, бюджетом, который его субсидирует, лежит на плечах финансовой организации, не затрагивая фермера. У нас многие сельхозтоваропроизводители еще за прошлый год не получили субсидию по процентной ставке. То есть они год платят по коммерческой ставке, идет вымывание оборотного капитала у фермера, который он мог бы потратить на улучшение производства, а в итоге деньги отвлекаются, это же неправильно. Ровно также ситуация обстоит с субсидированием инвестиционных затрат на приобретение техники и оборудования. Более-менее субсидии своевременно получают за удобрения и семена. У нас на конец марта этого года невыплаченных долгов прошлого года по субсидиям было 167 млрд тенге. И тут же говорят: мы увеличиваем кредитование. При этом у нас было в марте на весенне-полевые работы фермерам выделено 140 млрд тенге по линии НУХ «Байтерек» и 40 млрд через Продкорпорацию; итого, 180 млрд тенге. Слушайте, мы выделяем 180 млрд кредитов и не погашаем 167 млрд субсидий, смешно. Выдайте 167 млрд субсидий, и, возможно, многим фермерам не потребуется столько кредитов. Понимаете, логика напрочь отсутствует в распределении этих средств.
Фото: grainunion.kz
Страны региона MENA (Ближний Восток и Северная Африка) представляют одну из самых динамично развивающихся областей в мире. По прогнозам ООН, к 2025 году население региона увеличится на 33%, достигнув 652 миллионов человек. Кроме того, туризм продолжает расширяться во многих странах региона MENA, и правительства вкладывают средства в различные виды туризма — включая традиционный, деловой и инвестиционный секторы, одновременно развивая крупные логистические хабы, которые привлекают пассажиров авиакомпаний со всего мира.